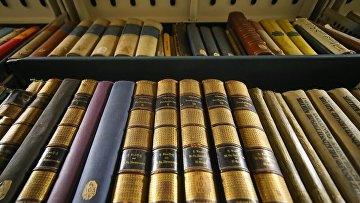Кража века: дело Пихлера и Виммер в Императорской библиотеке. Часть вторая
В этом году РАПСИ начало серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье будет рассматриваться конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику. В данной статье речь пойдет о знаменитой краже библиотечных книг.
Слушание 24 июля 1871 года разворачивалось в зале Второго уголовного отделения окружного суда при участии присяжных заседателей с соблюдением новой после реформ процессуальной архитектуры: председательствовал председатель суда Шамшин, членами были Зальц и Польнер; от обвинения выступал товарищ прокурора Кобылин; гражданский истец — сама Публичная библиотека — был представлен присяжным поверенным Владимиром Стасовым; защиту Пихлера вёл присяжный поверенный Арсеньев, Виммер — присяжный поверенный Герке. По ходу заседания допрашивались свидетели следствия, в том числе судебный следователь Ламанский и Лебедев, а также — с обстоятельным рассказом — статс-секретарь, товарищ министра народного просвещения и директор библиотеки Иван Делянов. Его показания имели двойную ценность: как руководителя учреждения, в стенах которого совершались хищения, и как лица, присутствовавшего при вскрытии «третьей комнаты» и осмотре «ящичных» накоплений. Показательно, что в зал в ходе заседания вошёл великий князь Константин Николаевич вместе с великим князем Николаем Константиновичем и управляющим департаментом Министерства юстиции Эссеном — знак общественной чувствительности к делу, поражавшему масштабом и беспрецедентностью «внутренней» кражи из национального книгохранилища.
Речь гражданского истца — Стасова — была выстроена на показе ущерба в двух плоскостях: количественной и качественной. В первой — возможная неполная возвратность (библиотека не могла «с уверенностью сказать, что все пропавшие книги были возвращены»), риск отправки части за границу; во второй — нанесённый вред фондам: многочисленные книги испорчены уничтожением знаков, вырезками гравюр, повреждением оправ. Самые эмоциональные фрагменты касались именно демонтажа «культурной ткани» изданий: из французской Библии вырезано 236 листов с гравюрами, из голландской — 135; серебряная оправа с польского тома из витрины — содрана. Этот пласт фактов работал сразу на оба пункта: подтверждал корыстный, а не «учёный» характер действий Пихлера и демонстрировал осмысленное сокрытие следов, в котором следствие видело роль Виммер.
Присяжный поверенный Стасов — и в этом проявлялась логика состязательного процесса — детально атаковал «учёную» легенду защиты. Он сопоставил календарь, счёт книг и «кросс-жанровость» изъятий, показывая невозможность честной научной переработки такого объёма в заданные сроки. Он же акцентировал, что даже у «диких народов» есть устав и порядок, а потому образованный человек, не знающий правил библиотеки, обязан был хотя бы спросить; Пихлер же «вводил свои порядки»: переставлял книги, выдёргивал карточки каталога, «брал охапками» — так тезис о «личных занятиях» окончательно обрушивался. Особым пунктом стала тема вырезок: ссылка Пихлера на якобы «дефектные издания» разбивалась о профессиональный стандарт — всякая библиотека стремится дефекты пополнить, а учёный должен беречь издание в целостности, чтобы им могли пользоваться другие. Отсюда и итоговая метафора Стасова, ставшая почти афоризмом заседания: Пихлер «думал, что у нас, варваров, можно таскать книги, как дрова, — и он действительно таскал их, как дрова».
В этой общей фактуре второй пункт обвинения — про Кресценцию Виммер — занимал особое, процессуально тонкое место. Закон требовал показать не только фактическое укрывательство (хранение украденного), но и субъективную сторону — знание о происхождении книг и намерение содействовать сокрытию преступления. Следствие и истец обращали внимание присяжных на три линии доказательств.
Первая — поведенческая: задержка с ключом от третьей комнаты, где в ящиках хранилось «большое количество книг», и факт, что без настойчивого вмешательства Делянова помещение не было бы открыто. Вторая — материальная: массовые следы удаления библиотечных знаков, невозможные без кропотливой «домашней» работы, которой, учитывая объём, не мог заниматься один человек, параллельно занимающийся выносом; сюда же относились вырезки гравюр и снятие оправ, требовавшие времени и инструмента. Третья — контекстная: проживание в квартире, где в разных комнатах лежали книжные «депо», и в то же время демонстративная попытка закрыть часть помещений от осмотра, свидетельствующая, что «тайна» этой квартиры от Виммер не могла быть скрыта. В совокупности эти элементы давали обвинению возможность говорить о «заведомости» — ключевом слове статьи об укрывательстве.
Процедурная сторона процесса также проявилась в детали, не всегда заметной читателю протоколов: переводчики у обоих подсудимых. Пихлер говорил по-немецки, с баварским акцентом; переводчиком ему служил присяжный поверенный Фосс. Виммер объяснялась только по-немецки; её переводил присяжный поверенный Дорн. Это не мелочь: суд сознательно устранял языковой барьер, чтобы соблюсти право на защиту, — требование новой системы присяжного суда, где понимание каждым участником смысла происходящего считалось безусловной основой справедливого разбирательства. Туда же ложится и регламент времени: объяснения подсудимого прерывались для отдыха дважды; заседание шло с полудня до шести вечера, затем объявлялся двухчасовой перерыв, после чего суд продолжал слушание. Так шаг за шагом формировалось у присяжных «внутреннее убеждение» — категория, появившаяся в российской судебной практике вместе с присяжными и противопоставленная прежней формальной доказательства.
Отдельный штрих — экспертная «социальная норма», которую привнёс академик Шифнер: «у немецких учёных нет обыкновения выносить книги секретно, в каких-нибудь мешках под платьем; они берут книги под расписку». Это звучит как нравственный приговор, но в зале суда это был ещё и культурологический контраргумент защитной легенде: вынос «в мешке», прикреплённом к сюртуку, — не просто нарушение русского библиотечного распорядка, но и поведение, дискредитирующее ссылку на «обычаи Европы». Именно об этой «технике» говорили и материальные предметы, найденные при осмотрах: карточки каталогов — как попытка «стереть следы» внутри учреждения, и мешок — как приём сокрытия при выходе, который швейцар Ермаков буквально «нащупал руками».
В сухом остатке для суда получалась картина стройная. Пункт первый: тайное похищение более 4 000 книг, подпадающее под статьи 548 и 1655 Уложения о наказаниях, подтверждённое задержанием с поличным, обысками «в тот же день», последующим досмотром, наличием специальных приспособлений и «корзины» сопутствующих действий — перестановки книг в отделениях, вырывания каталожных карточек, вырезок и снятия оправ. Пункт второй: умышленное содействие сокрытию — укрывательство, выразившееся в уничтожении знаков принадлежности и в поведении, направленном на препятствие осмотру части квартиры, при очевидной осведомлённости о происхождении книг. На этих двух «колоннах» и стояло обвинение, выстроенное товарищем прокурора Кобылиным и поддержанное речью гражданского истца Стасова. При этом у защиты тоже была своя логика: адвокаты Арсеньев и Герке пытались удержать Пихлера в плоскости «самовольного пользования» (противопоставляя это «присвоению») и выстроить вокруг Виммер «завесу незнания», сводя её роль к «домопомощнице», неспособной осознать системность происходящего. Но цифры, техника, тайники, гравюры и снятые оправы, — весь этот предметный, почти тактильный массив дела, — работал против них.
Именно поэтому заседание 24 июля 1871 года и вошло в летопись как почти образцово-показательный процесс присяжного суда новой России, где из привычных библиотечных карточек и гравюр сложилась полноценная уголовная вина, а из сопротивления отдать ключ — доказательство «заведомости». В нём виден весь «механизм» — от первых внутренних наблюдений в августе 1869 года до мартовского задержания с томом святого Амвросия и до июльского заседания с коронными эпизодами про 4 372 книги, 229 каталогов, 236 и 135 гравюр и «мешок под сюртуком». И если первый пункт обвинения давал присяжным почти осязательную уверенность в тайном похищении, то второй — о Виммер — демонстрировал, как в правопорядке эпохи реформ понимали и доказывали укрывательство: не как пассивное «житие рядом», а как цепочку сознательных действий по стиранию следов чужого преступления. Именно эта связка, задокументированная в протоколах, обысках, предметах и речах, и сделала дело Пихлера и Виммер не только крупным библиотечным скандалом, но и важным процессуальным прецедентом своего времени.
Санкт-Петербургский окружной суд приговорил Алоиза Пихлера к ссылке в Тобольскую губернию сроком на один год с последующим безвыездным поселением в Сибири ещё на два года; кроме того, с него взыскали деньги за причинённый ущерб фондам, в частности 1703 рубля за испорченные переплёты. В январе 1874 года по ходатайству баварского принца Леопольда Пихлера помиловали, он был выслан из России, вернулся в Баварию и вскоре умер (27 мая 1874 года). По Кресценции Виммер: суд лишил её «всех прав состояния», за пособничество назначил 4 месяца «работного дома», после чего велел выслать её из России.
Андрей Кирхин
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены