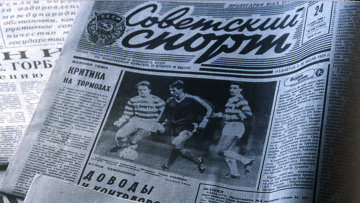"Застойные явления" в советской экономике
Почему административно-командная система советской модели социализма, обеспечив развитие экономики на этапе экстенсивного развития, оказалась совершенно не в состоянии обеспечить эффективное функционирование народного хозяйства на этапе интенсификации, начавшегося в связи с мировой научно-технической революцией, рассказывает в сто сороковом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.
В литературе периодом «застоя» называют отрезок времени в истории СССР с 1964 по 1985 гг. Этот термин не просто клише, употребляемое историками на своем сленге. Его запустил в оборот сам генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев с высокой трибуны XХVII съезда партии в январе 1986 года. В своем докладе он констатировал: «В жизни общества начали проступать застойные явления как в экономической, так и в социальной сферах».
Но сами «застойные явления» были обнаружены еще раньше, чем и вызвана была реформа Косыгина в 1965 году. Реформа, призванная решить эту проблему, провалилась. Вся административно-командная система и консервативная партийная бюрократия восстали против новшеств, которые давали большую свободу предприятиям и как бы выводили их из жестко централизованного подчинения партийным органам.
Руководители предприятий сами стали определять номенклатуру выпускаемой продукции помимо плановой, стали искать рынки сбыта ее, изучать спрос, стремились к получению прибыли, которой они могли сами распоряжаться.
Вырвались вперед заводы с талантливыми директорами, а нерентабельные предприятия, переведенные на самоокупаемость, стояли на пороге гибели, что было совершенно исключено в условиях господства советских идей социализма. Возникло нечто похожее на конкуренцию. Это очень испугало лидеров КПСС.
Из мемуаров обитателей Кремля мы узнаем о реакции на эти явления Л.И. Брежнева: «Да вы что, какие реформы... Не дай бог, камушек покатится, а за ним лавина… Экономические свободы повлекут хаос. Такое начнется. Перережут друг друга».
Реформы были свернуты, чему поспособствовало открытие Самотлорского месторождения нефти в России и рост мировых цен на энергоносители с 1973 года. Однако с «застойными явлениями» пытались бороться в рамках системы, вызвавшей эти явления.
Чтобы стимулировать производство, вместо категории «прибыль» стали применять различные гибкие плановые показатели и стимулы. Так, для металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий ввели общий показатель в тоннах производимой продукции. И все заводы тут же перешли на производство металлоемких станков и механизмов.
Станочный парк СССР стал сильно отличаться от иностранного: советские станки были тяжелее аналогичных чужеземных в 2,5 раза. Та же история была с мостовыми фермами и другими изделиями из металла. За такой огромный нерациональный и неэкономичный перерасход металла директора получали большие премии.
Для автотранспортных предприятий был введен показатель в тонно-километрах. Но сразу выявилось, что этот показатель увеличивается только, когда автомобиль находится в движении (вес умножался на пройденные километры). Нахождение же автомашины под погрузкой и разгрузкой обнуляло этот показатель. И вполне естественно, что водители и руководители таких предприятий стремились избирать самые длинные пути из одного пункта в другой.
При такой системе не помогали и компьютеры. Так, в Новосибирском Академгородке была проведена первая попытка использовать в практических целях ЭВМ (электронно-вычислительные машины). Машине дали задание найти самый рациональный маршрут для перевозки грузов из одного конца города в другой. Умная машина вычертила по возможности самый длинный путь с заездом в каждую улицу города. Для предприятия это был, действительно, самый выгодный маршрут.
Попытки учитывать результаты труда в «стоимости освоенных средств» привели к тому, что все строители стали применять наиболее дорогостоящие материалы.
Сложности в учете результатов труда в соответствии с многочисленными показателями привели к «припискам». В отчетах руководителей предприятий значились цифры, не соответствующие действительности, перепроверить которые в масштабе страны было невозможно.
Особенно сложно обстояло дело в условиях административно-командной системы с внедрением новой прогрессивной техники на производстве. Отставание в высокотехнологических областях было очень большим. Все достижения и плоды происходящей научно-технической революции с огромным трудом находили применение на практике.
Так и не были придуманы показатели, стимулирующие предприятия к применению передовых технологий и оборудования. Более того, вся существующая система делала невыгодным использование более высокопроизводительных станков и линий. Она просто отторгала всякие инновации.
В рабочей записке видных ученых в адрес ЦК КПСС в 1985 году говорилось об очень большом отставании в развитии наукоемких отраслей: «Положение в советской вычислительной технике представляется катастрофическим. По всем показателям мы отстаем на 5–15 лет».
Ярким и типичным примером застойных явлений в производстве может послужить история с одним из заводов промышленных кондиционеров. Об этом писала газета «Правда». В течение 19 лет в выпускаемую продукцию не было внесено никаких усовершенствований, несмотря на крайне низкое качество продукции.
Стимулов к повышению качества товара не было никаких. Проблемы со сбытом просто не существовало: ведь на всю пятилетку были расписаны предприятия, куда поставлялось это оборудование. И эти предприятия были обязаны получать его, так как по законам об охране труда в некоторых горячих и вредных цехах установка кондиционеров была обязательной. Кондиционеры повсеместно вскоре выходили из строя, но это уже никак не влияло на размер премий руководителей производящего их завода.
Таким образом, отказавшись от категорий «цена», «самоокупаемость», «рентабельность» и «прибыль», руководители советского государства так и не смогли найти гибкие показатели и стимулы, чтобы сделать экономику страны эффективной в условиях перехода от экстенсивного развития производства к интенсивному. Все эти показатели оказались несравнимыми по действенности с таким всеобщим и универсальным стимулом, как конкуренция.
В итоге экономика СССР была чрезвычайно расточительной. Партия отреагировала на такое состояние народного хозяйства отчаянным призывом Л.И. Брежнева «Экономика должна быть экономной», с которым он обратился к делегатам XXVI съезда КПСС в 1981 году. Но этот лозунг повис в воздухе.
По тем же причинам не рос практически уровень производительности труда и в сельском хозяйстве. Нехватка продовольствия восполнялась его все более возрастающими закупками за границей. На эти цели и уходили средства, получаемые от продажи нефти и газа. Один из видных экономистов того времени пророчески изрек: «Закончится дешевая нефть — закончится и социализм, и СССР».
Застойные явления отразились в обобщающем показателе роста национального дохода. Несмотря на огромные приписки в отчетностях, статистиками было зафиксировано, что в восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) среднегодовой прирост национального дохода составил 7,5%, в девятой пятилетке (1971–1975 гг.) он равнялся 5,8%, в десятой (1976–1980 гг.) — 3,8%, а в первые годы одиннадцатой пятилетки он снизился до 2,5%.
Продолжение читайте на сайте 5 августа